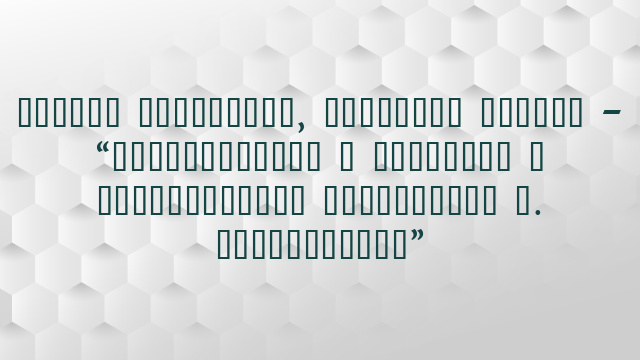
Михаил Винярский, Григорий Липшиц – “Воспоминания о занятиях в режиссерской мастерской С. Эйзенштейна”
Лучшие годы нашей жизни. Воспоминания о занятиях в режиссерской мастерской Сергея Эйзенштейна
Ниже публикуются воспоминания о Сергее Михайловиче Эйзенштейне кинорежиссеров Михаила Борисовича Винярского (1912–1977) и Григория Иосифовича Липшица (1911–1979). Оба они—выпускники режиссерского факультета ВГИКа 1936 года. Оба считали себя учениками Сергея Михайловича.
Эйзенштейн не набирал этот курс—он в это время был в Мексике. Он начал преподавать на нем осенью 1932 года. Недавно опубликована его лекция (или, лучше сказать, беседа со студентами), где он дает характеристики своим подопечным по окончании ими четвертого курса. Там фигурирует Винярский, но нет Липшица. Впрочем, в конце беседы Учитель замечает: «Я не берусь говорить о товарищах, которые у нас были недолго, так как надо говорить глубоко и ответственно»[1].
В сборнике «Эйзенштейн в воспоминаниях современников» напечатан короткий текст воспоминаний выпускника этой мастерской Николая Левицкого «Штрихи к портрету», который пишет: «После окончании последнего семестра мы, его ученики,—Олег Павленко, Константин Пипинашвили, Николай Маслов, Михаил Винярский, Натан Любошиц, Федор Филиппов, Виктор Невежин, Леонид Альцев, Михаил Величко, Валентин Кадочников, Григорий Липшиц, Мария Пугачевская, Елена Скачко, Уруймагов, Герберт Маршалл, Николай Левицкий и еще трое (не могу вспомнить)—собрались в “комнате режиссуры” на втором этаже “Яра”, очень возбужденные, даже радостные, что наконец-то закончилась учеба, и грустные оттого, что придется расстаться со своим дорогим учителем, с которым были долгие годы учения»[2].
В списке Левицкого фигурирует загадочный Уруймагов, сведений о котором не удается разыскать (впрочем, и в беседе Эйзенштейна упоминается некий Цой, о котором можно сказать то же самое).
Левицкий не упоминает среди учеников Эйзенштейна Киру Андроникашвили, сестру Наты Вачнадзе и жену Бориса Пильняка. Однако это можно списать и на цензуру: мало того, что Пильняк был расстрелян, так и она отсидела долгие годы в лагерях как «жена изменника родины».
Простая бюрократическая процедура—определить формально список студентов мастерской, которую вел Эйзенштейн с 1932 года по 1936, наталкивается на заметные трудности. Не сохранились многие документы… На память не во всем можно полагаться…
И все-таки учеником считается не тот, кто являлся им по документам, а тот, кто сохранил в памяти благодарность Учителю. Так что оба участника беседы, записанной Ефимом Левиным—и М.Б.Винярский, и Г.И.Липшиц—с полным правом—считали годы пребывания во ВГИКе, когда видели и слышали там Сергея Михайловича, «лучшими годами своей жизни».
По всей видимости, диалог Винярский—Липшиц должен был войти в состав сборника «Эйзенштейн в воспоминаниях современников» (составитель его—Р.Н.Юренев—приносит «глубокую благодарность» E.С.Левину, «помогавшему составителю»3), но объем книги не позволил сделать это.
Думается, публикация этого материала существенно углубит понимание условий, в которых пришлось работать Эйзенштейну по возращении на родину, и позволит существенно расширить представления о человеческих качествах людей 30-х годов—предвоенного поколения.
Владимир Забродин
Михаил Винярский: Когда мы встречаемся со своими однокурсниками—а их, увы, осталось немного,—то вспоминаем, как водится, студенческие годы, и первое имя, которое мы произносим,— это имя нашего дорогого незабываемого мастера. Мы говорим о нем снова и снова, и многих лет словно не бывало: Сергей Михайлович вновь с нами, с нами его улыбка, смех, его шутки, часто безжалостные, его голос… Выходят тома его сочинений[1], мы читаем их со странным чувством: все это нам знакомо, почти все. Это было с нами, мы слушали эти лекции, многие мысли, вошедшие в статьи, он впервые излагал нам, проверял на нас, и в то же время мы понимаем, как мало почерпнули тогда от Учителя и как много он дает и сегодня всем, кто хочет и способен учиться. И о чем бы мы ни говорили, встречаясь с вгиковцами тридцатых и сороковых годов—студентами Эйзенштейна,—разговор заканчивается одним и тем же признанием: всякое было в нашей жизни, и плохое, и хорошее, но самые лучшие годы—это годы, проведенные рядом с нашим любимым педагогом, это годы учебы у Эйзенштейна.
Григорий Липшиц: Помню, как мы его встречали на вокзале. Он ехал из Сочи, где был на курорте,—отдыхал после заграничной поездки[2]. Для нас, студентов первого курса, он был чем-то вроде бога, слава его была огромна.
Мы в 1931 году поступили в институт на курс Льва Владимировича Кулешова. Но было нас очень много, человек, наверное, пятьдесят. И в начале 1932 года прошел слух, что нас будут делить на две группы и что вторую возьмет Эйзенштейн, когда вернется из Мексики. Многие сразу записались во вторую группу, хотя мы ничего не имели против Льва Владимировича.
Но Эйзенштейн притягивал необычайно. Магию этого имени трудно даже передать, сейчас не объяснишь, что значило для нас присутствие гениального режиссера, живого классика среди нас.
М.В.: Мы приехали на Курский вокзал взволнованные, с цветами и лозунгом, который наделал нам хлопот. Перед этим как раз вышла статья Сталина о шести условиях—по колхозным проблемам. Мы написали на большом листе: «Седьмое условие—учиться и любить кино». Эйзенштейн был тронут.
Мы удивились, как просто он держался, никакой позы, декламации, словно он не придавал значения своему имени. Выглядел он хорошо, шутил. Мы были очарованы. В первые дни нового учебного года много было суматохи, беготни, и вдруг—партийное собрание. Тогда проходила чистка партии, и вот нашего студента Альцева[3] обвинили в том, что он не пресек вольномыслия и допустил лозунг о седьмом условии. Это, мол, непозволительно—сравнивать величайшего гения человечества с Эйзенштейном и так далее. Альцев совершенно растерялся и не мог ничего ответить на это нелепейшее обвинение.
Эйзенштейн был на собрании, сидел в первом ряду, красный, как кумач, еле сдерживался. Мы боялись, что он выступит и что-нибудь не то скажет, ведь он только что вернулся и мог не знать всех тонкостей наступившего нелегкого времени. Я выступил и сказал примерно следующее: я не коммунист, но тоже встречал Эйзенштейна с лозунгом и не понимаю, что здесь плохого, я не думал сравнивать режиссера со Сталиным. Словом, пытался объяснить, в чем дело, и закончил так: могу вас всех уверить, что мы встречали и будем встречать Эйзенштейна цветами и провожать тоже. Здесь Сергей Михайлович сказал: «Когда я помру? Ведь цветами провожают покойников!» Я смутился, но сказал: «Нет, пока вы живы. На вас собрание производит, видимо, не очень пpиятное впечатление, но вспомните любимую присказку Маркса и Энгельса: ты хорошо роешь, старый крот, давайте же делать свое дело!» Многие были возмущены, а многие аплодировали. Это собрание дало Эйзенштейну многое. Но о нем он не вспоминал.
Г.Л.: Когда начались занятия, Эйзенштейн сразу выяснил у нас, кто мы и откуда. Курс наш был рабоче-крестьянский. Мы с Мишей пришли в институт после одесского рабфака. Я работал на заводе литейщиком и по путевке комсомола поехал во ВГИК. Знал и умел я, как и другие, мало, но что было характерно для Эйзенштейна? Он никогда не подавлял своими знаниями. Он вселял в нас уверенность, что мы всё сумеем понять, если будем работать, как надо, что мы с ним можем сравниться. Он разжигал в нас жажду знаний и говорил: вы будете делать фильмы лучше, чем я! Надо только развить и сберечь свою индивидуальность. Эйзенштейн в конце курса давал каждому студенту характеристику.
М.В.: Мне он написал следующее: «Если Винярскому удастся сберечь свою индивидуальность, то, возможно, он создаст что-то интересное. Если же он на этом мощном дубе (имелся в виду Довженко, с которым я очень сблизился после того, как был у него на практике на «Аэрограде»[4]) совьет себе гнездышко и будет там жить, то творчески он будет прозябать».
Г.Л.: Жили мы дружно и весело, царила атмосфера поиска, мы любили шутку, розыгрыши. Эйзенштейн поддерживал наше увлечение физкультурой, спортом, ценил силу и ловкость и не делал мне замечаний, когда я на свое место шел по партам на руках. На очередной чистке все студенты за него стали горой. Эйзенштейн тоже выступил, багровый от гнева, и сказал: «Здесь говорили о моем происхождении и партийной принадлежности. Да, я не пролетарского происхождения и беспартийный. Но с белой сволочью я воевал! Я еще не одним фильмом попытаюсь показать тем, кто сомневается, мою партийную принадлежность»[5].
М.В.: К работе в институте он относился удивительно добросовестно, следил за учебой каждого студента, старался всячески помогать. Он первый ввел новое правило—студенческую практику на съемках картин мастеров. Это было замечательно! Эйзенштейн писал записки режиссерам с просьбой взять студента такого-то на практику, и ему, конечно, никто не отказывал. Роль это сыграло для нас огромную. У меня хранилась его записка к Довженко: «Дорогой Сашко! Посылаю к тебе одного из своих эйзенщенят. Он безусловно одарен. Прошу любить-жаловать, но будь бдителен: он не без остапбендеризма. Твой Сергей». Он старался, чтобы студенческие работы были известны в институте.
Г.Л.: После второго курса мы устроили выставку студенческих работ. Каждому было дано задание—построить макет декорации разработанной им сцены. Мы делали встречу Вотрэна с Растиньяком[6]. Собралось 30–35 макетов, были там очень интересные, Эйзенштейн одобрил. Нам дали комнату, которую мы тут же оформили как «комнату раскопок»—мол, что найдут в институте через тысячу лет. Мы приготовили много смешных экспонатов, в том числе и огромный череп Эйзенштейна. Он его увидел и хохотал до слез, просил не разрушать экспозицию, приводил иностранцев, гостивших у него, показывал им и смеялся от души, объясняя, почему на стенде—палка Юлия Цезаря (мы работали над отрывком из пьесы[7]), разбитый фонарь (волшебный фонарь Афанасия Кирхера по Шипулинскому[8]). В такого рода вещах Эйзенштейн тоже видел часть педагогического процесса. Довженко о нас говорил, что мы люди с высшим образованием без среднего. Эйзенштейн тоже это понимал, но никогда не упрекал, он ненавидел лишь лень, верхоглядство, самомнение. Он стремился, чтобы учиться нам было весело и интересно.
Никогда он не отделялся от студентов. Вечер в институте—он на вечере, и не сидит в сторонке важно, а среди нас: шутит, танцует, веселится от души.
М.В.: Помню один вечер, на котором он нас всех удивил. Мы были уверены, что он все знает и умеет, но не подозревали, что он—отличный танцор. И вдруг он идет танцевать со знаменитой тогда Сильвией Чен[9]. И как танцует! Все расступились, стали кругом, а он танцует, тонко, без пошлости стилизуя танец под негритянский. Вот это было зрелище! Все долго аплодировали. А тогда шли бурные дискуссии, на которых танцы решительно осуждались как буржуазный пережиток. Эйзенштейн дал образное выражение танца, его душу, так сказать.
Г.Л.: В тот вечер мы уединились в кабинете заместителя директора по хозяйственной части Осипова, чтобы отдохнуть и поболтать. Были Кадочников[10], Павленко[11], Кузнецов[12], Кишмишев[13], еще кто-то, появилось вино.
Сергей Михайлович вообще не пил никогда, но тут мы упросили его, он смочил губы в вине, тут же стал розовый, отодвинул рюмку и больше к ней не прикасался. Разговор был общим, и что характерно—Эйзенштейн, умевший и любивший поговорить, любил и слушать, не старался быть в центре разговора, а когда говорил, не ораторствовал, не поучал. Однако его слова надолго оставались в памяти.
Помню, после вечера мы, как всегда, провожали его до остановки. Как сейчас вижу его в сером костюме, плащ переброшен через руку, волосы лохматит ветер. Я еще тогда, во время разговора, подумал: какие у него добрые глаза. Он к людям относился с доверием, хотя не раз его доверие обманывали. Он был добрый человек. Вот один случай. Провожали мы его как-то раз после лекций к остановке «Бега»[14]. Было это, кажется, в 1932 году, тогда в «Колизее» с огромным успехом в течение года шла «Путевка в жизнь» Экка[15]. На остановке к нам подошли ребята-беспризорники—тогда они еще встречались на улицах—и попросили у Эйзенштейна денег, приняв его, видимо, за иностранца. Увлеченный разговором, Эйзенштейн не обратил на них внимания. Ребята снова к нему обратились. Тогда он жестом подозвал их к себе, наклонился к ним и заговорщицки сказал: «Идите, ребята, к дяде Экку, он на вас много заработал». Те опешили, мы рассмеялись, а Эйзенштейн вынул деньги и дал им, не помню, сколько.
М.В.: Он интересно строил занятия. Много внимания уделял на первых курсах биомеханике, внося в нее свои элементы[16]. Преподавать ее пригласил Зосиму Павловича Злобина[17], известного мейерхольдовца. Часто приходил на занятия, смотрел, иногда сам показывал, например, как движется Поль Робсон[18]. Давал Злобину специальные задания для нас, указывая, на что делать акцент. В обязательном порядке мы смотрели все спектакли театра Мейерхольда, некоторые по нескольку раз. Ценил Эйзенштейн и театр Революции[19], мы его тоже хорошо знали. Вообще Эйзенштейн требовал, чтобы мы знали все театры, и Малый, и MХАТ, хотя многое в их практике он не принимал и часто на лекциях отмечал это, но уважительно. Он часто рассказывал нам о Чаплине, о том, что он одну маленькую сцену, точнее, последний кадр «Огней большого города», снимал две недели. Девушка спрашивает: «Это вы?» Чарли отвечал: «Это не я». Снимал много раз. Чаплин нервничал, актриса плакала, говорила ему: «Вы не знаете, чего хотите».
«Я знаю,—отвечал Чаплин,—но не могу сделать». Наконец, он от бессилия и злости тоже расплакался! Потом вдруг: «Знаю, знаю! Я не должен говорить: “Нет, это не я”,—я вообще ничего не должен говорить!» И проиграл эту сцену по-новому, она получилась и была снята такой, какой мы ее видим в фильме. Эйзенштейн перед нами все это словно разыгрывал.
Г.Л.: Сергей Михайлович много рассказывал нам о своем замысле комедии «МММ»[20] и вообще о комедии. Жаль, что он ее не поставил. Он учил нас, что первое впечатление имеет огромное значение для художника, особенно для комедиографа. Приведу пример. На Первом съезде писателей21, куда мастер достал нам несколько гостевых билетов, во время перерыва кто-то громко крикнул: «Сергей!» Сергей Михайлович оглянулся и увидел Натана Зархи[22], которой через головы из другого конца коридора снова крикнул: «Сергей!»—«Что?»—спросил Сергей Михайлович. «Есть тема!»—«Какая?»—«Человеку при жизни поставили памятник!»—«Беру!»—сразу же ответил Эйзенштейн, и глаза его заблестели[23]. Он говорил не раз, что те образы, картины, идеи, которые возникают у художника в самом начале, очень важны, хотя они могут и не войти в картину. Он учил нас сразу откликаться на впечатления жизни, развивать фантазию, память. Учил подмечать смешное, нелепое, особенно те случаи, к которым можно отнести слова Ленина «по форме верно, а по существу издевательство». Он привел такой пример (при этом сказал: «Не для стенограммы»).
На магазине огромный плакат: «Социализм—это учет»,—а внизу, на дверях—огромный замок и объявление: «Ввиду учета магазин не работает». Чувству юмора он придавал большое значение, любил острое слово и сам рассыпал остроты, причем повредил себе многими высказываниями, потому что не щадил тупость, посредственность, бездарность, подхалимство, в том числе и у чиновников, какие бы посты они ни занимали. Но настоящих людей он любил, поддерживал, ободрял, выступал в печати, на обсуждениях. Яркий пример—братья Васильевы, его ученики по инструкторско-исследовательской мастерской[24]. Ведь с «Чапаевым» поначалу было не все так гладко, как теперь может показаться.
М.В.: Мы присутствовали на первом просмотре «Чапаева». Вот как было дело. Тогда еще не существовал Дом кино. Все просмотры для кинематографистов проходили в кинотеатре «Ударник». В тот вечер должны были показать «Веселых ребят». Когда мы спросили мнение Эйзенштейна о картине, он замялся, а потом сказал, что смотреть ее не советует[25]. Он был огорчен, что Александров пошел по этому пути. Однако мы пришли на просмотр. Кинотеатр полон, о фильме уже много говорили. Но выходит начальник главка Усиевич[26] и объявляет, что «Веселых ребят» показывать не будут, так как картина еще не вышла из лаборатории,—нелепое для кинематографистов объяснение (если картина еще в лаборатории, как можно назначать просмотр?). Но, продолжает Усиевич, ленинградцы привезли свою новую картину, давайте ее посмотрим. «А какая картина?»—кричат ему. Он отвечает: «Чапаев». «А, снова гражданская война!»—слышны голоса. И многие стали уходить. Осталась примерно половина зала, и начался просмотр. Принята была картина обычно, спокойно, все мирно разошлись, никакой сенсации не было и не предвиделось.
На следующий день в «Известиях» Хрисанф Херсонский фильм обругал[27], а потом сразу в «Правде» передовая статья—«“Чапаева” посмотрит вся страна»[28]. И на первых же просмотрах громадный зрительский успех.
Эйзенштейн, который из-за «Веселых ребят» не был на первом просмотре картины, привез ее в институт и посмотрел с нами. На лекции он подробно проанализировал фильм, пригласив режиссеров, которые рассказали много интересного. Эйзенштейн объяснил, какие традиции «Броненосца» развивает «Чапаев», в чем режиссеры пошли дальше, в чем их новаторство. Многие его мысли мы прочли вскоре в рецензии на фильм, которая называлась «Наконец!»[29] Васильевы рассказали, что у них была сцена, когда денщик стоит перед полковником Бородиным со связанными руками, полковник что-то роняет на пол, и слуга машинально пытается поднять это с пола. Мы эта выбросили, сказали Васильевы. Правильно, заметил Эйзенштейн, это перебор. Так шло обсуждение фильма, давшее нам очень много. Эйзенштейн всячески поддерживал Васильевых, гордился ими.
Г.Л.: А они говорили: если бы не он, нас бы не было.
М.В.: Из мемуаров известно, как Эйзенштейн относился к Мейерхольду[30]. Для него это был подлинно революционный художник, открыватель новых земель, создатель социалистического театра, учитель. Эйзенштейн тяжело переживал страшные события жизни Мейерхольда, бывал у него в трудные для того дни. Мейерхольд позвонил Довженко и пригласил его на последний спектакль, было уже известно, что есть приказ о закрытии театра[31]. Я в это время был у Довженко, и он сказал, что возьмет меня с собой. «Тяжело идти, как на похороны, но нельзя отказать»,—с болью сказал Довженко. Зал был переполнен. Я увидел почти всех подлинных друзей Мейерхольда, актеров разных театров—вся Москва пришла выразить свое отношение к режиссеру. Мы сели рядом с Эйзенштейном и Штраухом[32].
О спектакле—шла «Дама с камелиями» —говорить не буду, о нем много написано. Овация была неслыханной. Дали занавес. Я посмотрел на Довженко: он сидел, опустив голову, крепко сжав губы. А Эйзенштейн плакал.
Я видел его слезы впервые. Как-то мы на лекции его спросили, умеет ли он плакать. Он тогда отшутился, а теперь я видел его слезы, которых он не скрывал[33]. Он не аплодировал—ведь и он себя чувствовал на похоронах.
Любовь к Мейерхольду он пронес через всю жизнь и оказался прав в своей оценке творчества учителя. Это всем—отличный урок.
Г.Л.: По примеру Мейерхольда Эйзенштейн ввел открытые показы спектаклей своего курса. К нам приезжали кинематографисты, работники театра, часто бывали иностранцы. Помню, мы сдавали отрывок из «Юлия Цезаря» Шекспира—сцену убийства. Приехала группа французов с сенатором во главе. Эйзенштейн к ним подошел, поговорил, а потом начался показ. Причем наш мастер никогда не устраивал парада, все шло, как обычно, но он внимательно следил за реакцией зрителей.
Еще одно новшество—Эйзенштейн ввел обязательные макеты и то, что теперь называется монтажной карточкой или мизанкадром. Он ввел в практику выставку студенческих работ в новооткрытом Доме кино[34]. Первая такая выставка состоялась в июне 1934 года, мы показали разработки «Юлия Цезаря». Там были планировки, макеты, режиссерские сценарии, раскадровки с текстами. Герберт Маршалл[35], который учился с нами, увез наши раскадровки и другие материалы в Англию и там тоже устроил выставку, которая произвела большое впечатление. После войны нам привезли зарубежные режиссерские сценарии и разработки и показали как великое новшество. Это была копия того, что мы делали на студенческой скамье. Эйзенштейн учил нас рисовать кадр, делать наброски, которые потом можно изменить. На одной лекции в 1933 году он объяснил, что такое мизанкадр, и сказал: «Будьте свидетелями, родился новый термин!» До сих пор помню его голос: «Ударный момент в мизансцене перекладывается в мизанкадр, как крупный план».
Многoe, очень многое вошло в практику кино из того, что было Эйзенштейном найдено в институте, об этом мало кто знает. Что ж, пусть так, зато дело сделано. Ведь это Эйзенштейн первый стал приглашать на лекции актеров, и они играли отрывки из своих спектаклей и потом принимали участие в анализе. Это была незаменимая школа. Особенно часто бывали у нас Юдифь Глизep[36] и Максим Штраух. Мы разбирали отрывки из их спектаклей—«Улица радости»[37], например. Эйзенштейн старался, чтобы мы видели все этапы процесса. Он просил актеров рассказывать о том, как они работали над ролью, над отрывком, какие варианты отбрасывали, почему остановились на этом, а не на другом. Словом, он разворачивал перед нами весь процесс творчества. Эти занятия проходили в спортзале института, где было много места. К нам на занятия приходили режиссеры, актеры, искусствоведы. Помню Роома[38], Столпера[39], Дзигана[40], Барнета[41], Тарабукина[42], Федорова-Давыдова[43], Григорьева[44], Оболенского[45], Юдина[46] и других.
А как он готовился к лекциям! Мы бывали у него дома, еще в комнатке на Чистых прудах[47], где негде было повернуться от книг. Однажды я принес ему подарок от своего отца—белую платяную щетку с черными буквами посвящения. Сергей Михайлович работал за столом. Я увидел, что он разрабатывает задание, которое дал нам. Заметив мое удивление, он сказал:
«Ты думаешь, это так легко, фокусы?» Я ответил, что его лекции кажутся импровизациями. «Нет, сижу, готовлюсь, по шесть, по восемь часов».
Эйзенштейн старался вводить нас в среду кинематографистов. Всех привел на Всесоюзное совещание по художественной кинематографии 1935 года[48]. Как-то мы загорелись идеей построить в районе Адлера наш советский Голливуд. Тогда такие замыслы были в моде. Эйзенштейн поддержал нашу идею. Мы ночами чертили, планировали, рисовали. Составили проект, все как надо. Эйзенштейн посмотрел и говорит: «Идите к Шумяцкому[49], покажите ему». Мы пошли в главк и перед столом секретарши разложили на полу замечательный проект. Секретарша обещала доложить тогдашнему руководителю кинематографии. На том дело и кончилось. Эйзенштейн, конечно, заранее это предвидел, но не стал нас отговаривать, гасить наш энтузиазм.
А работа над проектом была для нас своеобразным учебным заданием: нам пришлось продумать многие новые проблемы, прочесть массу литературы, познакомиться с новым материалом—словом, занятие пошло нам на пользу.
М.В.: Xoчу добавить несколько слов о том значении, которое придавал Эйзенштейн театру в процессе нашего обучения. То, что мы смотрели все интересные спектакли, само собой понятно. Мы обсуждали их—мейерхольдовские «33 обморока» [50], «Даму с камелиями», «Лес» [51], мы ходили к Мейерхольду на репетиции, где собиралась часто вся театральная Москва, и какая это была для нас школа! Кто не присутствовал на репетициях великого режиссера, тот не знает в полном объеме, что такое Мейерхольд и что такое его театр. Эйзенштейн повел нас на спектакль «Улица радости» в театре Революции. Потом мы его обсудили с участием Глизер и Штрауха. Но мало этого. Сергей Михайлович дал нам задание: написать продолжение пьесы—что будет дальше с героями? И обосновать, и рассказать, как это нужно ставить. Эйзенштейн все время искал новые формы занятий, чтобы мы и усвоили как можно больше, и полнее раскрылись. Он подробно анализировал на лекциях свои фильмы, часто обращался к творчеству Пудовкина, много говорил о Довженко, о Кулешове. Помню, две лекции мы посвятили подробному разбору «Потомка Чингис-хана» [52].
Эйзенштейн никогда не кривил душой, не боялся кого-либо обидеть или перехвалить. Ему важно было выяснить истину, показать нам, в чем, по его мнению, достоинства и недостатки картины. Он был требовательным критиком и к другим, и к себе.
Помню его анализ «Старого и нового». Он говорил, что сознательно делал экспериментальный фильм, хотел исследовать, как крестьянин, вчера еще темный и забитый, становится хозяином земли. В конце он самокритично сказал—нам всем это страшно понравилось и поразило прямотой и откровенностью: «Так как я всю жизнь был далек oт села, не знал его, а знал через молочницу, которая приносила молоко, то это не моя тема» [53]. После просмотра «Вива, Вилья!» [54] много говорил об этой картине, рассказывал о своем мексиканском неосуществленном фильме, видно было, какая для него это трагедия. Он не рвал на себе волосы, говорил часто в шутливом тоне, но боль свою скрыть не мог. Это вообще для него очень характерно: как бы его ни ругали, ни поносили, особенно во второй половине тридцатых годов и позднее, после запрещения второй серии «Грозного» [55], Эйзенштейн делал вид, что это его не трогает, не поддавался на людях унынию, не жаловался на судьбу, а работал, работал. Мы страшно за него переживали, просто передать трудно, как мы за него болели. Ведь жизнь его проходила перед нами, мы всё видели, хотя и не всё тогда понимали. Но мы видели главное: «Учителю трудно, он может делать необозримо много, а нет условий для настоящей работы». Когда он начал ставить «Бежин луг», все обрадовались, и он тоже повеселел. Но снова—трагедия: несправедливые обвинения и разгромная критика[56].
Г.Л.: Да, жизнь его была нелегкая, но он не унывал, не хныкал и пессимистом не стал. Он сознавал свое значение и место в истории кино. По влиянию на современников никто из кинематографистов не может с ним сравниться. На Первом съезде Союза кинематографистов[57] было много его учеников, мы собрались вместе, побывали на могиле Учителя, потом собрались еще раз в Грузии, вспомнили институт, рассказывали о себе. Что нас объединяет, таких разных, много лет не встречавшихся?—Это…
М.В.: …Эйзенштейн, память о нем, то, что он в нас вложил.
Г.Л.: Это в нас останется, пока мы живы. Он воздействовал на нас своим человеческим обаянием и чистотой своего облика, принципиальностью. Он не гнался за чинами, не стремился к деньгам, к наградам, к власти. А если получал возможность влиять на дела кино—когда стал перед войной ненадолго художественным руководителем «Мосфильма» [58]—то старался помогать талантливым людям. Жил он скромно, не нуждался, конечно, но и тугой мошной не обладал. Вообще деньги, по-моему, для него немного значили. Он их тратил в основном на книги, в особенности любил редкие, на картины, собирал антиквариат. В сороковые годы, когда обучение в институте было еще платным, он платил за обучение нескольких своих студентов. Никто об этом не знал, кроме бухгалтерии, только после его смерти открылось. Перед войной у него появилась машина с шофером, «эмка»—после «Невского», очевидно. Что с ней потом стало, не знаю. Мы тогда уже кончили институт, встречались редко, работали на студиях, но он постоянно интересовался, как идут наши дела. Приедешь в Москву, непременно первым делом на Потылиху, к Сергею Михайловичу.
М.В.: Он всегда поддерживал в нас бодрость духа. Теперь я пони маю, что и на лекциях он тоже старался преподносить нам матери ал так, чтобы не засушивать нас, а будить фантазию, веру в себя и уме ние работать весело.
Именно так! Учеба, работа над фильмом, по его словам, должна приносить радость. Мы видели, что для него преподавание—удовольствие, и учение для нас было удовольствием. Он как бы играл, увлекая нас. Он был словно фокусник на лекциях, не только в словах, но и в жестах. Помнишь, Гриша? Рисунок он делал одним росчерком, и возникал образ, типичный только для него.
Г.Л.: Еще бы не помнить! Я страшно ему завидовал: умеет же! Когда кто-то отвечал скучно, он не перебивал, а незаметно для отвечающего показывал нам такую пантомиму: «тянул» изо рта длинную ленту-зевок, потом «перерезал» ее пальцами, как ножницами, «сворачивал» и клал в карман.
Мы давились от смеха.
М.В.: Иногда мы сидели шесть, восемь часов подряд, и никто не уходил, даже заядлые курильщики стонали, но терпели. Все серьезное он перемежал юмором, усталости мы не чувствовали. Мы рты открывали, когда он начинал с точки зрения киновыразительности анализировать картины Сурикова, Репина, Эль Греко, Леонардо, Серова[59]. Эйзенштейн приглашал на лекции Ивана Александровича Аксенова[60] , тот рассказывал о елизаветинской драме, о Шекспире. Приглашал Тарабукина, специалиста по изобразительному искусству. Эйзенштейн хотел, чтобы мы были знакомы с разными точками зрения, могли сопоставлять и выбирать. Он не стремился к тому, чтобы мы на все смотрели его глазами.
Г.Л.: Наоборот, он приучал нас к самостоятельности во всем. Ненавидел иждивенчество.
М.В.: Когда мы изучали биомеханику, то я был старостой. Все хозяйство курса лежало на мне, костюмы, снаряды, приспособления. Мы все обеспечивали сами.
Г.Л.: Эйзенштейн добивался, чтобы у каждого из нас было свое художественное видение. Вспоминаю разговоры об этом, связанные с Мэй Ланьфаном. Тогда знаменитый китайский актер приехал в Москву со своей труппой[61]. Никто его не знал, а Сергей Михайлович был знатоком китайского и японского театров, и ему поручили встречать актера и быть его гидом. И вот однажды, это было в 1935 году, в павильоне я снимал курсовую работу по сценарию Ростислава Николаевича Юренева[62], тогда студента сценарного факультета. Вдруг входит группа людей. Останавливается вдалеке. Продолжаю свое дело. Смотрю—идет ко мне Мастер с китайцем. Знакомит, представляет меня, потом представляет гостя. Пожимаем руки, раскланиваемся, я возвращаюсь к аппарату, гости смотрят. На следующий день Эйзенштейн мне говорит шутливо: «Теперь ты не должен мыть руку, ведь на ней пожатие Мэя, а он в Китае считается святым человеком и его пожатие надо передавать другим, как святыню. Такой у них обычай». Мэй Ланьфан даже жил отдельно от своих актеров, так полагалось святому. Эйзенштейн провел с ним много времени, подружился и написал статью об актере—«Чародею Грушевого Сада» [63]
А на лекции, объясняя особенности искусства китайского актера и театра, говорил, что нужно уметь видеть мир по-своему, оригинально, но всегда содержательно, социально насыщенно, и вырабатывать свою художественную форму, работать в своем ключе. Главное—это принцип творчества. Если он есть, надо искать выразительную форму, но не успокаиваться, если нашел: радуйся, но не очень, потому что это наверняка уже когда-то было! Ищи дальше. Об этом он часто говорил не только на лекциях. Мы бывали у него дома, он показывал заготовки к лекциям, множество рисунков, из которых выбирался один.
Эйзенштейн приучал нас мыслить пластически, линией, цветом, объяснял, что такое масса движения в кадре на большом количестве примеров из кино, живописи, скульптуры. И всегда он раскрывал индивидуальность художника, подчеркивая его своеобразие. Любил анализировать карикатуры, дружеские шаржи. В те годы почему-то было много банкетов по любому поводу. На столах обычно—вино и коврижки. Эйзенштейн, хотя и не пил, всегда был с курсом. Бывали с нами и другие педагоги. На одном банкете, помню, мы смеялись над дружеским шаржем Вали Кадочникова: он на листе ватмана метров пять-шесть нарисовал Мастера в виде наседки, а из яиц «вылупливается» наша группа.
М.В.: Он, с его фантастической, небывалой памятью, помнил о нас все.
Уже после окончания института при встрече спрашивал: «Как дела, Бальзачок?» Он прозвал меня так еще на первом курсе за мое увлечение Бальзаком. «Неужели и у Бальзачка нет вопросов?»—спрашивал он в конце лекции: я страшно любил задавать вопросы. К тому же я заметил, что они ему нужны для его метода ведения лекции, который он называл сократическим: вопросы и ответы развивали нужную мысль, превращали лекцию в живую беседу. Он стремился к тому, чтобы мы не только все время следили за его мыслью, но и участвовали в ее движении, думали параллельно с ним. Это было, скажу я вам, не так легко, но увлекательно, разве не так?
Г.Л.: Увлекательно, Миша, пожалуй, не то слово. Следить за его мыслью, гнаться за ней, держаться на ее высоте—это было радостью и наслаждением. Поэтому институт для нас—школа не только режиссуры.
М.В.: Однажды я спросил: «Почему при чтения Бальзака бывает так, что конца еще не знаешь, а уже чувствуешь, что что-то неблагополучно, что развязка будет трагическая? Случайно это или подготовлено?» Эйзенштейн, отвечая, развил подробно свою концепцию, о которой он нам часто говорил, концепцию форшлага[64], предощущения, предыгры[65]. На следующую лекцию он принес Бальзака, читал нам отрывки и показывал на конкретных примерах, как осуществляется подготовка к кульминации, к решительному удару, как автор исподволь ведет скрытую, нужную ему тему, а потом выводит ее на поверхность. Помню, он анализировал «Отца Горио» и показал, как нарастает трагедия старого отца, как готовит Бальзак его прозрение. Объяснил восклицание Горио: «О, ангелы мои родные?!» и его трагический смысл.
Как-то раз мы eго спросили: «Почему выходит много плохих картин?»
Он помедлил, повернулся к доске и молча нарисовал мелом четкий профиль.
Потом сказал, что от этого профиля надо идти в глубину, искать новые его грани. А что делает плохой режиссер? Он на этот профиль накладывает еще один, потом еще один, и еще,—и Эйзенштейн рисовал эти профили, так что скоро рисунок совсем сгладился, потерял форму: лица не было. Вот так, сказал Сергей Михайлович, получается тогда, когда художник скользит по поверхности, повторяет однажды найденное, не углубляется в материал, не умеет добиваться объемности.
На пepвых порах мы его часто спрашивали о системе Дельсарта[66], которой одно время увлекался Лев Кулешов и проповедовал ее как систему актерской выразительности. Эйзенштейн подробно объяснял, почему он не согласен с Кулешовым. Дельсарт, говорил он, описал множество статичных состояний, запечатленных в скульптуре, множество поз, жестов, мимику.
Это интересно, однако нельзя считать выразительные элементы скульптуры элементами актерской игры, актерского арсенала. Ведь они статичны, безличны, они не несут в себе индивидуальности актера и не могут быть использованы в различных ситуациях с одинаковым успехом. Помню eго слова: «Если уколоть лягушку иглой, у нее будет один жест. У шимпанзе—совсем другой. У человека—третий. Причем у каждого человека будет своя реакция на одно и то же раздражение, потому что человека мы рассматриваем как индивидуальность. Говорят, что Дельсарт предвосхитил теорию типажа. Нечего общего у них нет. Типаж—это абсолютное сходство исполнителя и персонажа в данной конкретной ситуации, в данном действии, поступке. А Дельсарт давал равнозначащие для всех моментов жизни решения». В этой связи он заговорил о пределах типажа, о его возможностях и границах и об условности искусства, которую нельзя не учитывать.
«Когда на сцену в опере выходит живая лошадь, о чем будет непременно думать зритель? Он будет гадать: нагадит или не нагадит?» Много говорил он о правде жизни и правде искусства, о том, как они соотносятся.
Г.Л.: Раз уж мы заговорили о типаже—помню, Сергей Михайлович подробно объяснял, почему он на роль Ленина в «Октябре» взял рабочего Никандрова[67]. Взял, исходя из задач фильма, из его стиля, подчиняя роль общему решению картины. Помню его фразу, сказанную очень серьезно: «С Лениным шутить нельзя». Звучит она весьма современно, не правда ли?
М.В.: Когда появился звук, мы его спросили, будет ли он снимать звуковые фильмы. С улыбкой он ответил: «Я буду снимать вторым». А цветные фильмы? Снова тот же ответ: «Я буду снимать вторым». Он потом объяснил, что первые звуковые и цветные фильмы будут сниматься как технические новинки, звук и цвет еще не будет в них полностью использован как выразительное средство. А потом уже настанет пора художественных решений.
Он все время учил нас тому, что прием сам по себе в искусстве ничего не значит, что он должен быть содержательным, выразительным. Поэтому он давал нам классику, анализировал искусство прошлого и показывал содержательность приемов, выразительность художественной формы. Поэтому же знакомил нас с философией, психологией, историей, физиологией высшей нервной деятельности,—чтобы мы осознавали то, что делаем, умели находить и исправлять ошибки. Сомнамбулического творчества он не признавал, хотя не отрицал роли интуиции, вдохновения, творческого озарения. Свои занятия он строил, постоянно провоцируя нашу мысль, заставляя думать на каждом этапе работы, критически оценивать сделанное. Когда мы на втором курсе разрабатывали отрывки из «Преступления и наказания» и этюд «Дессалин» [68], Эйзенштейн все время спрашивал: почему так решаются сцены у Достоевского? То же самое—во время работы над «Вотреном» [69]: почему Бальзак так ведет действие? Он поощрял самостоятельное мышление, острые решения, неожиданные повороты. За смелость мысли любил Валю Кадочникова, самого талантливого из нас. Олега Павленко—этого девятнадцатилетнего юношу Сергей Михайлович шутливо-уважительно называл по имени-отчеству: Олег Захарович.
Г.Л.: Однажды мы его спросили: верно ли говорят, что вы не любите актера? Он усмехнулся и ответил: «Я люблю актера и умею с ним работать. Хотите—верьте, хотите—нет».
М.В.: И добавил: «Но учтите, что в будущем кино станет иным. Изменится актерское исполнение. Кино сумеет полнее и точнее передавать правду жизни, то, что мы сегодня делаем типажом. Изменится игра актера. В “Октябре” я хотел создать сложный обертонный образ: Ленин—это рабочий, а рабочий—это Ленин. Ленина сможет сыграть и актер. От актера я не уйду». И он оказался прав. В «Бежином луге» он прекрасно работал с первоклассными театральными актерами[70], добиваясь правды жизни по-новому.
Г.Л.: Везде он ее добивался. В «Александре Невском» он развил то, что нашел раньше. Новые задачи решал новыми средствами. Он нам об этом часто говорил. Актер стал частью ансамбля. Учил он нас и тому, как справляться с производственными трудностями, которых в звуковом кино стало больше. Огромное внимание уделял предварительной подготовке, подготовительному периоду, репетициям с актерами. К съемкам готовился самым тщательным образом, был ярый враг разгильдяйства. «Если вы до съемки хорошо подготовились за столом, вы себя будете чувствовать нормально и сможете импровизировать. Пот на съемке—это плохо»,—говорил он. Сегодня это общеизвестные истины, которые тем не менее редко соблюдаются, а тогда это приходилось доказывать. У него на площадке работа кипела.
Все бросались выполнять его указания, повторять не приходилось. Не надо было час искать по студии постановщика, чтобы вбить гвоздь или передвинуть бревно. Работать с ним любили, дисциплина была отменная, ни криков, ни ругани,—даже представить себе это сегодня невозможно. Культура производства была высокая—высокая культура человеческих отношений. Позднее как-то Пырьев признал[71], что многое из того, что утвердил на производстве Эйзенштейн, было нами утеряно. Эйзенштейн ввел в практику современные монтажные разработки. Но учил нас не превращать их в догму. Непременно на площадке будут изменения, секрет в том, чтобы они не ухудшали задуманного за столом. Он учил нас монтажным секретам, анализируя Джотто, Домье, показывал, что дает живопись кинематографу.
Очень интересны его выступления на обсуждении наших дипломных работ. Высоко оценил работу Кадочникова «Золотой ключик» [72]. Я делал диплом на спортивную тему. Cepгей Михайлович, выступая, сказал—привожу выписку из стенограммы:
«Тов. Эйзенштейн. Я буду очень краток, потому что Леонид Леонидович (это Оболенский, его друг и преподаватель института, соратник Кулешова,—Г.Л.) все сказал. Я должен сказать, что ваша работа производит на меня в высшей степени отрадное впечатление, потому что вместе с теми качествами, которые мы видели в целом ряде работ, которые здесь сдавались,—именно с чрезвычайно углубленным анализом в работе, допустим, Маслова[73] в отношении Гоголя,—мы здесь имеем совершенно такое же перенесение этого материала в живую, настоящую проблему Советского Союза, в проблему спорта, и видно, что этому делу уделено настоящее время и изучение.
Как отмечалось, со спортивными картинами у нас неблагополучно обстоит, и весьма отрадно, что мы находим специалиста, который готов свои художественные навыки и художественное умение направить именно на эту тему. Я считаю, что это в высшей степени ценно.
Я особенно придирчиво смотрел на целый ряд материалов, которые Липшиц показал, потому что весь год он работал не только по художественной линии, он работал также и по другой специальности, и нужно отметить, что весь материал, который он мог почерпнуть из нашего отдела художественного фильма, им взят, причем взят чрезвычайно умно и правильно.
Мы знаем, что когда нам приходится показывать сложный ход событий, как, в данном случае, один из сложнейших ходов события—футбольный матч, обычно в монтажной концепции невообразимая путаница. Почти во всех сложных массовых сценах проследить логику совершающего события чрезвычайно трудно.
Я считаю, что Липшиц вдвойне здорово сделал. Во-первых, показал футбольный матч. Я об этом знаю кое-что, потому что мне в театре приходилось компоновать нарастание драмы через всевозможные ситуации в боксе[74]. То же самое ему пришлось делать через футбол, и драматургически распялено действие на действие в футболе очень умело. И второе, что чрезвычайно трудно,— это же перенесено в монтажные листы. То, что он здесь показывает, как он врезает крупные планы, не снимая единства действия, единства этих переходов и стадий игры, может служить образцом того, как нужно к этому делу подводить. Я не буду дальше его расхваливать, но скажу, что одно особенно приятно, что он сумел взять из футбола его логику, живость и огонь, и сумел эти спортивные качества перенести в композицию кинематографическую, так что я думаю, что мы должны отнестись к этой работе в высшей степени положительно».
Зная интересы каждого из нас, он помогал нам находить темы для курсовых и дипломных работ. Когда мы с Олегом Павленко решили экранизировать рассказ Альберта Мальца[75] «Мне все равно», Cepгей Михайлович написал письмо новому руководителю кинокомитета Большакову[76] с просьбой поддержать наш замысел и указал: «По части Америки беру консультацию на себя».
М.В.: Не все у нас получалось, как хотелось ему и нам. На самостоятельную работу вышли мы перед самой войной, не успели развернуться, потом—война, не до кино, а после войны—малокартинье. Многие снимали незначительные, случайные вещи—документальные, учебные фильмы, иным и этого не досталось. А когда, наконец, мы стали режиссировать, лучшее для творческого становления, созревания время было уже за плечами.
Но все же в каждой нашей удачной работе можно заметить следы учебы у Эйзенштейна. О себе я могу сказать, что когда я работал над документальным фильмом «Приговор выносит история», то думал: а как бы это сделал Учитель? И вспоминал его уроки, особенно монтажные: «Можно снять все, удачно или неудачно. Но главная мысль выльется в монтаже». Родился прием острой публицистической направленности с использованием американской кинохроники. Эти поиски я продолжил в научно-популярном фильме «Путь к антивеществу». Материал студию ужаснул, был даже готов приказ о прекращении работы над картиной. А когда я смонтировал фильм, его мысль стала ясна. Что бы ни задумывал, над чем бы ни работал—всегда вспоминаешь Учителя, проверяешь себя его уроками. Об этом мы тоже говорили, когда собрались в Тбилиси.
Г.Л.: Вспоминаю встречу с ним в 1942 году. Я служил тогда в военно-десантном корпусе, который располагался в Академии имени Жуковского.
21 августа должен был состояться большой вечер американской и английской кинематографии[77]. Мы узнали, что приехали на вечер Пудовкин и Эйзенштейн, и вместе с Натаном Любошицем[78] пошли к ним в гостиницу «Москва». Постучали. Выглянул Пудовкин. Он был еще не одет, но, увидев нас, закричал: «Входите, входите!» Мы вошли, обняли Сергея Михайловича. Они тут же отдали нам свои билеты на вечер. Эйзенштейн сказал: «Есть кворум! Сейчас будет репетиция!» Он поставил на тумбу чемодан, получилось что-то вроде трибуны. Мы втроем чинно уселись перед ней, а Эйзенштейн стал за «трибуну» и быстро проговорил текст своей речи по-английски[79].
Пудовкин время от времени аплодировал, а мы за ним. Потом Пудовкин стал за «трибуну», а Эйзенштейн сел на его место, и повторилась та же картина.
Они вели себя как дети. Видно было, что рады встрече с Москвой. Эйзенштейн спросил: «Как дела?» Мы коротко рассказали. «А по линии кино?» Но планов у нас тогда определенных не было, надо было воевать. Вечер американской и английской кинематографии прошел интересно. Вступительное слово сделал Большаков, затем шел доклад Сергея Михайловича—«Американская кинематография и ее борьба с фашизмом» [80]. О фильме Чаплина «Диктатор» [81] говорил Илья Эренбург. На второй день Пудовкин сделал доклад «Актеры английского и американского кино» [82]. Довженко выступил с докладом «Война и сотрудничество кинематографии союзных стран» [83]. Выступали Роман Кармен[84], Зоя Федорова[85], Н.Трояновский[86] и другие. Потом Эйзенштейн уехал в Алма-Ата продолжать работу над «Грозным».
М.В.: Очень интересно складывались и развивались отношения Эйзенштейна и Довженко. После практики на «Аэрограде» я подружился с Александром Петровичем, стал часто бывать у него дома. Довженко часто говорил об Эйзенштейне. Признавал его место в кино—первое место. Не все фильмы нашего Учителя ему нравились, метод у него был совсем иной, но должное они друг другу всегда отдавали. На лекциях Сергей Михайлович часто говорил о «Земле», которую любил, о первой части «Ивана»— приводил в пример ее точный монтаж, о «Щорсе», которого оценивал высоко.
Довженко рассказал мне, как он показывал «Звенигору» Эйзенштейну и Пудовкину. И хотя этот эпизод теперь известен из статьи Эйзенштейна «Рождение мастера» [87], вам будет интересно узнать о нем—в моем пересказе—от самого Довженко, с его точки зрения. Итак, рассказываю. В те годы— 20-е—Репертуарный комитет на просмотры фильмов для их приема всегда приглашал Эйзенштейна и Пудовкина, вошедших в славу режиссеров. Позвал их на «Звенигору». Они идти почему-то не хотели, отнекивались, но все же пришли. Довженко рассказывал: «Сижу я в зале, волнуюсь. Входят, двое. Узнаю, кто они. Вижу—важничают, причем явно играют. Посмотрели на меня свысока, сели. Вначале смотрели спокойно, потом начали толкать друг друга локтями, я сижу сзади, все вижу, все слышу. К концу, слышу, Эйзенштейн шепчет Пудовкину: “В нашем полку прибыло: третий!”. Дали свет, Эйзенштейн и Пудовкин сияют—совсем другие лица. Пудовкин сказал: “Далеко пойдешь, мы тебя принимаем”. Сразу перешли на “ты”, будто давно знакомы. Я очень волновался: еще бы—оба режиссера с мировыми именами, наверняка съедят, и был готов к бою. Но бой не состоялся».
Так рассказывал о памятном для него дне Довженко. Oт него же я узнал о сложных отношениях Сталина и Эйзенштейна. Во время работы над «Аэроградом», в середине 30-х годов, Довженко был вхож к Сталину. Эйзенштейн просил его узнать, почему Сталин к нему плохо относится: на письмо нет ответа, в приеме отказывают. «В чем дело? Что он от меня хочет? Узнай так, чтобы он не заподозрил. Не мне тебя учить». Как-то раз Довженко сказал мне: «Сталин—непонятный для меня человек. Он, по сути дела, из-за ерунды взъелся на Эйзенштейна». По словам Александра Петровича, произошло следующее. Сталин в узком кругу смотрел «Старое и новое», был на просмотре и Ворошилов, он ополчился на картину: где, мол, режиссер видел такое село? Сталин сказал: «Бывает хуже». Ворошилов опять: где Эйзенштейн увидел таких уродов? Сталин снова: «Бывает хуже». Ворошилов свое: где режиссер взял эту философию? Сталин опять: «Бывает хуже». На том дело и кончилось. Но через какое-то время за границей в газете появилась большая статья «Бывает хуже». В ней описывался просмотр Сталиным картины и все, что тогда было сказано. Едко иронизировал автор статьи по поводу того, как относится Сталин к великому режиссеру и от чего зависит его судьба. Эйзенштейн об этой статье ничего не знал. Видимо, он рассказал неосмотрительно о просмотре кому-то из часто посещавших его иностранцев или кто-то из его друзей проговорился—словом, эта история стала известна и принесла Эйзенштейну много неприятностей. Сталин решил, что Эйзенштейн нарочно рассказал обо всем для огласки. Довженко, видимо, сумел убедить Сталина в обратном. Так или иначе, но отношение его к Эйзенштейну изменилось к лучшему. Однако эта история не научила нашего Мастера осторожности[88].
Г.Л.: Последний раз я увидел Сергея Михайловича сразу после войны. Я демобилизовался и приехал в Москву. Эйзенштейна дома не было, и я пошел домой к Довженко. Был я в полувоенной форме, в кирзовых сапогах.
Дверь мне открыла Юлия Ипполитовна[89], пригласила войти. Взглянув на мои caпоги, ахнула, быстро взяла пачку газет и с порога комнаты стала в такт моим шагам подкладывать газеты на пол, чтобы я не испачкал паркет. Довженко стоял у стены и хохотал, глядя на эту картину. А я шагал по этой мизансцене. Мы обнялись и долго беседовали, а потом я поехал в Комитет на Малый Гнездниковский.
Здесь, на четвертом этаже, в холле я увидел Сергея Михайловича. Он разговаривал с Константином Исаевым[90]. Я подошел, поздоровался. Он улыбнулся, протянул руку, и я не удержался от возгласа: «Сергей Михайлович, вы так изменились!» Действительно, он сильно постарел. Не было пышного клока волос над лбом, к которому мы привыкли, отчего лоб стал еще больше. Морщины изрезали лицо, он выглядел озабоченным, даже подавленным. При моих словах он печально как-то улыбнулся, тут кто-то подошел и обратился к нему с вопросом. Эйзенштейн стал с ним говорить, а Исаев мне шепнул: «Ты что, с ума сошел? Разве так можно?»—давая мне понять, что я совершил бестактность. Но у меня это вырвалось непроизвольно, так поразил меня новый облик Учителя. Он закончил разговор и сразу обратился ко мне: «Гриша, как здоровье?» Оказывается, он знал, что я недавно из госпиталя. Мы сели в холле, и он забросал меня вопросами. Мы говорили о ребятах, которые погибли на войне—об Олеге Павленко, Николае Кузнецове, об умерших во время войны Вале Кадочникове, Мише Величко[91].
Эйзенштейн печально кивал головой: «Так рано ушли из жизни эти ребята».
Он очень в них верил, много им отдал. Сергей Михайлович пригласил меня заходить, как всегда, просил писать ему подробно о моих делах. Я расстался с ним под впечатлением его задумчивости, печального взгляда, мне было не по себе, я злился на себя из-за того, что неуместно влепил эту фразу «Вы так изменились», и я снова о нем думал, как это часто было даже на фронте.
В тамбовских лесах, где формировалась 2-я гвардейская армия в основном из десантников, в составе 33 гвардейской стрелковой дивизии я встретится с Григорием Чухраем, тогда молодым стройным парнем—командиром роты связи штаба дивизии. Не раз мы с ним встречались в боевой обстановке, и я понял, что он тянется к искусству. Во время пауз он все советовался со мной, куда пойти учиться—в ГИТИС или во ВГИК[92]. Я, конечно, советовал идти в киноинститут, на режиссерский факультет, рисовал ему мизансцены и перекладывал их в мизанкадр. Объяснял ему все это и повторял: «Это Эйзенштейн».
Да, Эйзенштейн! Это для меня очень много, и не только для меня, но и для всех, кто у него учился, кто был тогда в стенах ВГИКа. Правда, обидно, что жизнь сложилась не так, как хотелось, не так, как могла сложиться.
После института многие из нас пошли на производство и хорошо начали. Олег Павленко и я должны были ставить фильм по рассказу Мальца, о котором я уже говорил и консультацию по которому нам обещал Учитель. Но Большаков не утвердил эту тему и поручил нам ставить картину по рассказу недавно приехавшей в Москву Ванды Василевской[93] «Вербы и мостовая».
Мы написали сценарий и начали работать над фильмом, но—война прервала работу. Мы ушли на фронт. Отмечу, что по предложению Михаила Ильича Ромма, который был тогда заместителем начальника главка[94], диалоги в сценарии нам дорабатывал Юрий Олеша—может, это пригодится для истории кино. На других студиях хорошо пошли Кузнецов, Кадочников, Виктор Невежин[95], Иван Лукинский[96], Константин Пипинашвили[97] и другие наши ребята. Но после войны для тех, кто остался в живых, работы не было, наши сценарии исключались «во изменение тематического плана», а время шло, самое дорогое время молодости. Мало мы успели. С полным правом мы могли бы быть недовольными. И тем не менее мы ни о чем не жалеем. Поймете ли нас вы, не заставшие никого из великих, не знавшие радости общения с ними? Вот вы сидите, слушаете и записываете наши воспоминания о Сергее Михайловиче. Вы тоже любите его, изучаете, хотя в живых его не застали. Вы знаете , что он великий режиссер и теоретик. Так вот, для того, чтобы вы поняли, какой это был человек, я вам скажу—и всей сегодняшней нашей кинематографической молодежи—что считаю себя счастливым. И уверен, что не только я. Нас можно отнести к неудачникам. Но не спешите!
Мы счастливы, что знали Эйзенштейна, учились у него, разговаривали с ним, запросто, как с товарищем, что шутили с ним, бывали у него дома.
Это—величайшая из удач, так что нам можно завидовать. Мы счастливы, что он нас уважал и любил, понимал и учил, что он заботился о нас, так много отдал нам сил, верил в нас. Мы гордимся тем, что были частью его замечательной жизни. Доказать это невозможно, но верьте, что это так.
М.В.: Присоединяюсь к словам моего старого друга.
Беседу записал Ефим Левин
1968 г.
1. Речь идет об издании: Э й з е н ш т е й н С. Избранные произведения в 6 тт. М.: «Искусство». К моменту проведения беседы вышли: т. 1, 2 и 3—1964 г.; т. 4—1966 г; т. 5—1968 г.
2. С.М.Эйзенштейн (вместе с Г.В.Александровым и Э.К.Тиссэ) выехал в заграничную командировку 19 августа 1929 года, вернулась группа в Москву 9 мая 1932 года.
3. Альцев Леонид Петрович (1905–1955)—выпускник мастерской С.М.Эйзенштейна (1936). Его характеристику, данную мастером, см.: КЗ, № 68, с. 149–151.
4. Винярский проходил трехмесячную практику на съемках фильма А.П.Довженко «Аэроград» весной 1935 года.
5. Эйзенштейн с сентября I918 года по сентябрь 1920 проходил службу в Военном строительстве (от Вологды до Минска), однако в боевых действиях участия не принимал.
6. Речь идет об учебной работе по роману Оноре де Бальзака «Отец Горио».
7. Имеется в виду трагедия Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь».
8. Шипулинский Феофан Платонович (1876–1942)—историк кино, педагог. В его книге «История кино. Т. 1. История кино на Западе» (М., 1933) об этом сказано так: «И вот в 1640 году в Рим приходит с севера гейсенский (Германия) монашек-иезуит Афанасий Кирхер (1601–1676) и приносит своим братьям изобретенный, им чудодейственный аппарат, названный им по справедливости “волшебным фонарем”—“Catopria magica”. Изобретение поистине гениальное, ибо оно дошло почти неизменным до нашего времени» (с. 16).
9. Речь идет о Сильвии Чен, сестре Иоланды Чен (Чен Юлан), окончившей операторский факультет в 1935 году. Сильвия была женой Джея Лейды, учившегося у Эйзенштейна.
10. Кадочников Валентин Иванович (1911–1942)—выпускник мастерской С.М.Эй зенштейна (1936). Его характеристику, данную мастером, см.: КЗ, № 68, с. 161–162. Работал в кино как художник анимационных фильмов. Поставил (совместно с Ф.Филипповым) фильм «Волшебное зерно». В доработке этой картины принимал участие С.М.Эйзенштейн.
11. Павленко Олег Захарович (?–1942)—выпускник мастерской С.М.Эйзенштейна (1936). Его характеристику, данную мастером, см.: КЗ, № 68, с. 159—160.
12. Кузнецов Н.В.—выпускник режиссерского факультета (1936). Работал ассистентом режиссера на картинах «Сказка о рыбаке и рыбке» (1937, реж. А.Птушко) и «Степан Разин» (1939, реж. О.Преображенская и И.Правов). Погиб на войне.
13. Кишмишев Вартан Иванович—выпускник мастерской С.М.Эйзенштейна (1936). Его характеристику, данную мастером, см.: КЗ, № 68, с. 146—147. Работал ассистентом режиссера на фильме «Волга-Волга» (1938). Погиб на войне.
14. Институт помещался с 1924 года по адресу: Ленинградский проспект, 22 (когда-то ресторан «Яр»).
15. Экк (наст. фам. Ивакин) Николай Владимирович (1902–1976)—кинорежиссер. Сокурсник Эйзенштейна по ГВЫРМ (Государственные высшие режиссерские мастерские), ученик Всеволода Эмильевича Мейерхольда.
16. Полноценное представление о взглядах Эйзенштейна на биомеханику в середине 30-х годов дает лекция, прочитанная им 28 марта 1935 года (правда, курсу, обучаемому режиссуре по типу академии). Она опубликована: Мейерхольд и другие. Документы и материалы. М., 2000, с. 711–729 (публикация и комментарии В.А.Щербакова).
17. Злобин Зосима Павлович (1901–1965)—драматический актер, хореограф, педагог. Был сокурсником Эйзенштейна по ГВЫРМ.
18. Робсон Поль (I898–1976)—певец, актер. Впервые гастролировал в Советском Союзе в декабре 1934 года. Эйзенштейн писал о нем («Правда», 1934, 22 декабря, с. 6). Режиссер мечтал о сотрудничестве с актером. Письма Эйзенштейна Полю Робсону и его жене Эсланде опубликованы: «Киноведческие записки», 1997/98, № 36/37, с. 339–343.
19. Поскольку после возвращения на родину ни один замысел Эйзенштейна не был одобрен кинематографическим начальством, то в апреле–ноябре 1934 года он пытался осуществить постановку в Театре Революции пьесы Натана Зархи «Москва Вторая».
20. С осени 1932 года по весну 1933 года Эйзенштейн работал над сценарием и готовился к съемкам картины «МММ». В апреле 1933 года этот проект был закрыт. Сценарий опубликован: Из истории кино. Документы и материалы. Вып. 10. М., 1977, с. 98–152.
21. Первый съезд советских писателей проходил в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года.
22. Зархи Натан Абрамович (1900–1935)—кинодраматург.
23. Эйзенштейн иначе рассказал о начале работы с драматургом. В лекции (25 октября 1934 года) на 4-м курсе режиссерского факультета он вспоминал: «Я не знаю, что у меня в театре выйдет, и никто не знает, но я могу указать пример, что пьесу Зархи мы начали так. Был я в прошлом году здесь, в ГИКе (имеется в виду учебный год, т.е. весна 1934 года.— В.З.), бежал на один урок, Зархи—на другой урок. Столкнулись. Встретились.
—Ну, что вы хотите делать?—спросил он меня.
—Хочу идти в театр.
—Есть пьеса.
—Какая?
—Человеку поставили памятник при жизни.
—Хорошо, беру». (Кабинет режиссуры ВГИК. Лекции профессора С.M.Эйзенштейна на 4-м курсе. 1934–1935 учебный год. Инв. № 38, л. 183.)
В памяти Г.Липшица два разных события: посещение съезда писателей и лекция в институте—соединились в одно.
24. 23 октября 1928 года начала работать инструкторско-исследовательская мастерская при Госкинотехникуме. О ее задачах было рассказано в беседе с Перой Аташевой «Инструкторско-исследовательская мастерская при Г.Т.К. Беседа с руководителем мастерской С.М.Эйзенштейном» («Советский экран», 1928, № 48, с. 4).
25. Эйзенштейн на первом этапе работы над «Веселыми ребятами» помогал Г.В.Александрову. Сохранились разработки сцен с участием джаз-оркестра (РГАЛИ, ф. 1923, oп. 1, ед. хр. 364).
26. Усиевич Владимир Александрович (1896–1938)—начальник художественно-производственного управления ГУКФ, был одновременно и заместителем начальника ГУКФа (Главное управление кинофотопромышленности).
27. Херсонский Хрисанф Николаевич (1897–1968)—кинокритик. Однокурсник Эйзенштейна по ГВЫРМ. Его статья о картине «Чапаев» напечатана в «Известиях» 10 ноября 1934 года. Ответ на нее в «Правде» «Картинки в газете и картины на экране. (О кинорецензии Хрис. Херсонского в “Известях”)» за подписью «Кинозритель» появился 12 ноября 1934 года. Он был инициирован самим И.В.Сталиным (см.: «Киноведческие записки», 2002, № 61, с. 321).
28. Передовица «Правды» «“Чапаева” посмотрит вся страна» была опубликована 21 ноября 1934 года.
29. Статья Эйзенштейна «Наконец!» была напечатана в «Литературной газете» (1934, 18 ноября, с. 2).
30. Имеются в виду «Автобиографические записки», напечатанные в 1-м томе «Избранных произведений» С.М.Эйзенштейна.
31. Судьба Театра имени Мейерхольда была предрешена еще 17 декабря 1937 года, когда в «Правде» была напечатана статья П.Керженцева «Чужой театр». 7 января 1938 года Комитетом по делам искусств было принято постановление о ликвидации Государственного театра имени Мейерхольда. Этим же вечером прошло последнее представление пьесы «Дама с камелиями» (725-е со дня премьеры 19 марта 1934).
32. Штраух Максим Максимович (1900–1974)—актер. Друг Эйзенштейна с детских лет, сотрудник по работе в Театре Пролеткульта и в кино. Работал в Театре имени Мейерхольда в 1929–1931 гг. Помогал Эйзенштейну в сохранении архива Мейерхольда.
33. Эйзенштейн высоко оценил режиссерскую работу Мейерхольда в спектакле «Дама с камелиями»—см.: Избранные произведения, т. 4, с. 597–604.
34. Московский дом кино начал свою работу весной 1934 года.
35. Маршалл Герберт—его характеристику, данную мастером, см.: КЗ, № 68, с.166
36. Глизер Юдифь Самойловна (1904–1968)—актриса, жена М.М.Штрауха. Начинала свою деятельность в Театре Пролеткульта под началом Эйзенштейна. Он написал о ее работе в искусстве замечательное эссе «Юдифь» (впервые напечатано: «Театральная жизнь», 1965, № 15, с. 24–28; № 16, с. 24–28; № 17, с. 23–26).
37. «Улица радости»—спектакль Театра Революции (1932, реж. И.Шлепянов) по пьесе Н.Зархи. Портной Рубинчик—одна из лучших ролей Максима Штрауха в театре.
38. Роом Абрам Матвеевич (1894–1976)—кинорежиссер.
39. Столпер Александр Борисович (1907–1979)—кинорежиссер. Окончил режиссерский факультет типа академии в 1938 году.
40. Дзиган Ефим Львович (1898–1981)—кинорежиссер.
41. Барнет Борис Васильевич (1902–1965)—актер, кинорежиссер.
42. Тарабукин Николай Михайлович (1889–1956)—искусствовед. Эйзенштейн приглашал его читать лекции своим ученикам и собирался включить его анализ картины Веронезе «Пир в Кане Галилейской» в книгу «Режиссура». Лекция Тарабукина «Смысл диагональных построений в композиции фильма “Чапаев”», прочитанная во ВГИКе 3 декабря 1935 года, опубликована: «Киноведческих записки», 2002, № 56, с. 115–128.
43. Федоров-Давыдов Алексей Александрович (1900–1969)—искусствовед. Работал во ВГИКе, возглавлял научно-исследовательский сектор ВГИКа, в 1934 году прочитал доклад «Изобразительные моменты в фильмах Эйзенштейна».
44. Григорьев Михаил Степанович (1890–1980)—литературовед, педагог. Был деканом режиссерского факультета ВГИКа.
45. Оболенский Леонид Леонидович (1902–I991)—актер, режиссер, звукооператор.
46. Юдин Константин Константинович (1896–1957)—кинорежиссер. А.М.Роом, Е.Л.Дзиган, Б.В.Барнет, Л.Л.Оболенский, К.К.Юдин упоминаются в этом списке как консультанты курсовых и дипломных работ мастерской Эйзенштейна—см. кн.: К истории ВГИКа. Часть II (1935–1945). Документы. Пресса. Воспоминания. Исследования. М., 2004, с. 34, 47, 52, 78.
47. В комнатке на Чистых Прудах, в квартире, когда-то принадлежавшей отцу Максима Максимовича Штрауха, Эйзенштейн поселился в конце 1920 года. Выразительный очерк этой своеобразной «вороньей слободки», в которую квартира превратилась после «уплотнения» революционных лет, см. в эссе «Юдифь» (Избранные произведения, т. 5, с. 376–379).
48. Первое Всесоюзное совещание творческих работников кино состоялось в январе 1935 года. Эйзенштейн выступал с докладом 8 января и с заключительным словом 13 января.
49. Шумяцкий Борис Захарович (1886–1938)—с октября 1930 года по январь 1938 года—руководитель советской кинематографии (в разные годы эта должность именовалась довольно причудливо).
50. «33 обморока»—спектакль В.Э.Мейерхольда по водевилям А.П.Чехова («Юбилей», «Медведь», «Предложение»). Премьера состоялась 25 марта 1935 года.
51. «Лес»—один из самых знаменитых спектаклей В.Э.Мейерхольда. Премьера состоялась 19 января 1924 года, спектакль шел вплоть до закрытия театра.
52. Видимо, это была своеобразная лекционная дилогия Эйзенштейна. Впервые цикл из двух лекций о «Потомке Чигис-хана» он прочел в инструкторско-исследовательской мастерской 24 и 28 ноября 1928 года. Лекции опубликованы: «Киноведческие записки», 2004, № 68, с. 26–64.
53. Думается, эта фраза была скорее ироничной, нежели самокритичной. Одна из статей Эйзенштейна о «Старом и новом» называлась «Эксперимент, понятный миллионам». Речь шла о принципах хозяйствования крестьянства. Говорить о трагическом ходе коллективизации в студенческой аудитории Эйзенштейн, конечно же, не мог.
54. «Вива Вилья!»—фильм американского реж. Джека Конвея (1934). Эйзенштейн написал послесловие к сценарию фильма: X е к т Б е н. Вива Вилья! М., 1943, с. 189-195.
55. Постановление ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» было принято 4 сентября 1946 года. 10 сентября оно было опубликовано в газете «Культура и жизнь». По существу, главным объектом партийной критики стала вторая серия фильма «Иван Грозный». Эйзенштейну пришлось признать справедливость критики в статье «О фильме “Иван Грозный”» («Культура и жизнь», 1946, 20 октября, с. 4).
56. В 1937 году было выпущено издание «О фильме “Бежин луг”». Против формализма в киноискусстве», где были собраны статьи Б.Шумяцкого, И.Вайсфельда и Е.Вейсмана, к которым была добавлена самокритическая статья Эйзенштейна «Ошибки “Бежина луга”».
57. Речь идет о Первом учредительном съезде Союза кинематографистов СССР, проходившем в Москве 23–26 ноября 1965 года.
58. Эйзенштейн был художественным руководителем киностудии «Мосфильм» с октября 1940 года по октябрь 1941, когда был освобожден от этой должности на время работы над фильмом «Иван Грозный».
59. Анализы картин с точки зрения киновыразительности могли всплыть в памяти М.Винярского при чтении «Избранных произведений» Учителя. Анализ «Боярыни Морозовой» Сурикова с точки зрения «золотого сечения» см. в статье «О строении вещей» (т. 3, с. 57–60); изменение ракурса при портретировании актрисы В.Серовым см. в главе «Ермолова» книги «Монтаж» (т. 2, с. 376–392 ); там же о произведениях И.Репина (с. 384–392) и В.Сурикова (с. 389–391); главку об Эль Греко см. в разделе «Пафос» «Неравнодушной природы» (т. 3, с. 143–156); анализ текста Леонардо «Потоп» как монтажного листа см. в статье «Монтаж 1938» (т. 2, с. 167–172).
60. Аксенов Иван Александрович (1884–1935)—поэт, переводчик, театровед. Был ректором ГВЫРМ в пору учебы Эйзенштейна. Автор первой монографии о кинорежиссере: А к с е н о в И. А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. М., 1991.
61. Мей Ланьфан (1894–1961)—китайский актер. Гастроли его труппы проходили в Москве в марте 1935 года. В своих воспоминаниях о московских гастролях актер упоминает о документальном фильме, запечатлевшем прибытие труппы в Москву и о съемке фрагментов спектаклей на «Мосфильме», которую организовал Эйзенштейн (см.: Эйзенштейн в воспоминаниях современников, с 258–261).
62. Р.Н.Юренев окончил обучение на сценарном факультете в 1936 году.
63. Эйзенштейн написал две статьи, которые предваряли гастроли Мэй Ланьфана: «Театр Мэй Ланьфана» («Комсомольская правда», 1935, 11 марта, с. 4) и «Чародею Грушевого Сада» (в кн.: Мэй Ланьфан и китайский театр. К гастролям в СССР. Издание ВОКС, с. 17–26). По окончании гастролей состоялось их обсуждение, на котором выступал и Эйзенштейн (см. запись его выступления—«Искусство кино», 1992, № 1, с. 135–137).
64. Форшлаг—один из мелизмов; представляет собой один-два звука, предваряющие основной звук мелодии.
65. Предыгра—термин, предложенный В.Э.Мейерхольдом при работе над спектаклем «Учитель Бубус» по пьесе А.Файко. Обоснован в главе «Игра и предыгра», напечатанной в брошюре «Учитель Бубус» (М., 1925, с. 14–18).
66. Дельсарт Франсуа-Александр (1811–1871)—французский театральный педагог.
67. Эксперимент с приглашением внешне похожего на Ленина рабочего кончился довольно печально. Дело не только в том, что художественные результаты были подвергнуты критике как друзьями режиссера, так и его недругами. Но особенности поведения непрофессионального актера—к тому же он оказался и алкоголиком—превратили съемки в кошмар. Завершился этот эксперимент тем, что Никандров попал в психиатрическую лечебницу.
68. О работе над этими произведениями подробно рассказано в кн.: Н и ж н и й В. На уроках режиссуры С.Эйзенштейна. М., 1958 (с. 117–168—о «Преступлении и наказании»; с. 33–113 о «Дессалине»).
69. О работе над эпизодом из романа Бальзака «Отец Горио» см. в главе «Мизансцен-резонэ» (Э й з е н ш т е й н С. Неравнодушная природа. Т. 1. М., 2004, с. 401—423 ).
70. В первой версии «Бежина луга» (19




